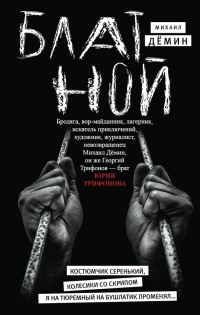Книга Три девушки в ярости - Изабель Пандазопулос
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как-то они взяли меня с собой в Нантер — поддержать манифестацию студентов университета. Уезжали с вокзала Сен-Лазар. Студенты раздавали листовки прямо на перроне. У них требования к правилам внутреннего распорядка. Они против раздельного обучения юношей и девушек и требуют свободного передвижения как днём, так и по ночам.
На первый взгляд, знаешь, Нантер — жуткий город. Сплошная стройка. Представь себе большие бетонные здания, безликие и холодные, а между ними лишь пустыри. Комнатки студентов крохотные, вид из окон — на грязь и заброшенные земли, изборождённые следами экскаваторов. А если пойти туда, где заканчиваются университетские здания, наткнёшься на пейзаж ещё невзрачнее. «Это бидонвили», — объяснила мне Дебора (женщина с хриплым голосом), которая улучила минутку, чтобы показать мне город, хотя она всё ещё смеётся надо мной, я ведь среди них белая ворона. Такие бидонвили населены иммигрантами, главным образом из стран Магриба, их привозят во Францию из-за того, что здесь не хватает рабочих рук. И размещают как скот. Меня аж передёрнуло, стоило мне только представить, как им тут живётся.
— Пташка вылетела из золотой клетки, — съехидничала Дебо.
Я опустила глаза, чтобы скрыть замешательство. Она права. Несмотря на всё это, я не чувствую, что она осуждает меня. Подтрунивает, насмехается, иногда раздражается и даже обалдевает от моей наивности, но никогда не оставляет меня не у дел. Марсель не скрывает, что восхищается ей. Иногда я вижу, как они целуются. Наверное, им случается и вместе спать.
— Да ведь все свободны, — отчеканила Дебо в тот день, когда соизволила со мной об этом поговорить. — Нельзя же просто быть с кем-то и при этом обещать самой себе, что это на всю жизнь, ты тоже так считаешь?
Я не ответила. Пытаюсь к этому привыкнуть. А всё-таки я вижу: когда мы с Марселем хохочем, её это немножко огорчает. Но для них самое главное — бороться за продвижение их идей.
На тех листовках, что они раздают, я смогла прочесть чёрным по белому такое, чего никогда не решилась бы произнести вслух. Это нечто вроде воззвания, в котором призывают отменить все запреты вокруг сексуальной стороны жизни, требуют изменить нравы, выдвигают на первый план плотское удовольствие.
Я попыталась разузнать немного побольше о Марселе. Дебора охотно рассказала мне: он сын преподавателя, с семьёй своей разругался, потому что хочет снимать кино, а его отец не считает это серьёзным ремеслом. Живёт он в комнате для прислуги совсем рядом с метро «Гобелен». У него много любовниц.
Однажды мы целовались. Но больше ничего такого. И то лишь единожды, и, думаю, это не имело для него никакого значения. И потом, это показалось мне так похоже на все остальные разы. Когда юноша целует меня, я чувствую, что становлюсь какой-то другой. Одна часть меня получает удовольствие, а другая — зло посмеивается, напрягается, упрямится. Я чувствую себя неумелой. И даже решительно посмешищем.
Вот, дорогая подруга, и что ты об этом думаешь? Представляю, как ты осмысляешь эту ситуацию… «Ты влюблена?» — спрашиваешь ты у меня, словно врач, который, нахмурив брови, щупает мой пульс. Я вздыхаю… Может быть… Я сомневаюсь… немножечко… да… и даже немного больше чем немножечко всё-таки! Но на самом деле не больше… Я на него запала — так мне кажется, вернее, больше соответствует моме-е-е-енту…
Я пишу тебе это письмо уже четыре с лишним часа. Ведь мне так приятно и тепло, нежная моя, чувствовать, что ты рядом, несмотря ни на что.
Фаншетта — Сюзанне
Базоль,
24 марта 67
Моя маленькая Сюзанна!
Как там дела в Париже? Здесь-то плоховато всё же, мне уж не двадцать, и коленки совсем не гнутся. Да и вся эта катавасия — так грустно смотреть. Ни маме нехорошо, ни ребёнку. Я уж не знаю, что и делать. Особенно когда месье Максим от всего самоустраняется.
Я вот что себе думаю: сможет ли она выкарабкаться, мадам Ильза-то? У меня ведь сердце кровью обливается, как подумаю, что она смотрит в потолок с утра до вечера. Очень уж я за неё переживаю. Мне кажется, ей надо возвращаться в Париж, потому что мадам Дельфина — она её просто с ума сводит, говоря по правде. Ты можешь так твоему отцу и сказать? Нелегко это, знаю, но так нужно сделать. Меня-то он слушать не станет. Ну, теперь обнимаю тебя и надеюсь, ты там при деле.
Магда — Сюзанне
Париж,
2 апреля 67
Моя дорогая Сюзанна!
Я рассчитывала приехать на Пасху. Папа дал мне понять: он хочет, чтобы я оставалась в Берлине, пока остальные члены семьи не воссоединятся с нами по эту сторону Стены. Я разозлилась. То же самое было и на Рождество. И фразы те же. Приказано терпеть. Без объяснений. Подразумевается, что я не могу располагать собой до скончания времён. Я сказала ему, что задыхаюсь. Что хочу быть немного свободнее, чем есть. Или хотя бы получить какие-нибудь объяснения. Разделить это ожидание.
Ответил он очень зло. Заявил, что я не изменилась. Всё та же эгоистка, какой была. Думаю только о себе и собственном комфорте. Мне было так больно, что я просто схлопнулась, как устрица. И с тех пор так и не разжала зубов. Я больше не хочу с ним разговаривать. Он неопределённо извинился. Но я не захотела объясняться с ним. Вот уже больше недели мы не обменялись ни словом.
Ещё чуть-чуть, и я не выдержу. Меня ранили. Я хочу стремглав бежать отсюда. Я дохожу до ненависти к собственной семье и всему, что она держит под запретом или хранит в тайне.
Я уже испытывала эти чувства — эту спешку жить, порыв к бегству. Не знаю, откуда всплывают мои воспоминания. Например, вчера у меня перед глазами вдруг возникла эта сцена, она была почти реальной.
Я стою. Очень напряжённая. Стою за партой в классе. Фрау Шлютер о чём-то меня спрашивает. Я несколько раз отвечаю «не знаю». Я делаю это нарочно, чтобы разозлить её. Она несправедлива. Я не хочу опускать глаза. Я сопротивляюсь ей.
Внезапно она срывается на крик. Её терпение кончилось. Вот она подходит ко мне близко. От неё плохо пахнет, это немыслимо, ведь я точно помню, что фрау Шлютер всегда славится безупречной, безукоризненной чистотой. Очевидно, что она боится, и боится из-за меня. То, что я делаю, может обернуться неприятностями не только для меня, но и для неё. Я тону в слезах, но отказываюсь сделать то, чего она требует. Я не двигаюсь. Я не уступлю. Никогда.
В классе мёртвая тишина. Ни насмешливого хохотка. Ни косых взглядов. Ни дуновения ветерка. Только звериное замешательство от того, что сейчас может мне так дорого обойтись.